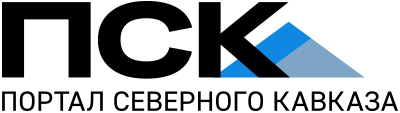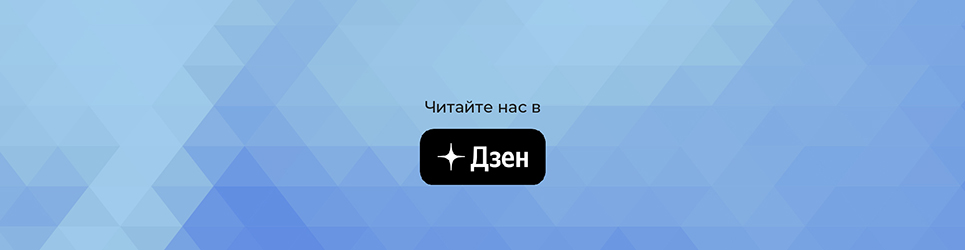Влияние ценностных предпочтений субъектов социального действия на экономическую и политическую эффективность государства столь значительно, что, будучи устойчивыми сегментами менталитета, они мотивируют экономическое и управленческое поведение человека и опосредуют темпы, механику, качество реализации человеческого капитала, а, значит, и социального роста.
Экспертное мнение профессора кафедры истории, права и гуманитарных дисциплин Северо-Кавказского филиала РАНХиГС, ведущего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории, доктора философских наук, доцента Лилии Мулляр.
Констатация экономической и политико-управленческой состоятельности современного российского общества звучит прогрессивно, а новационные перспективы весьма заманчивы; теоретическая и эмпирическая популяризация понятия «человеческий капитал» формирует, казалось бы, внятный тренд социально-экономического развития. А в реальности? В реальности – онтологический парадокс: с одной стороны, налицо развертывание объективных условий для экономической и политико-управленческой активности человека, с другой, латентная сила аксиологических стереотипов удерживает экономическое поведение в рамках производительной рецессии, а управленческое поведение – в унылой зависимости от бюрократической архаики и консервативного этатизма. Ценностный контент личности, таким образом, импликативен по отношению к человеческому капиталу, текущему социальному процессу и модернизационным событиям. Нежелание признавать и принимать в расчет данное обстоятельство сводило неоднократные попытки российской власти преодолеть историческое аутсайдерство государства к «холостому ходу» социальных трансформаций. «Прорывные» притязания современной России адекватны данной исторической традиции, т.е. типу неорганической модернизации.
В теории модернизации (М. Вебер, Э. Дюркгейм, П. Штомка) известны два классических типа: «органическая модернизация» осуществляется за счет внутренних источников и означает комплекс закономерных социально-онтологических трансформаций, таких, какие, например, происходили в Западной Европе в XV-XVI веках (Ренессанс и Реформация). Органическая модернизация начинается с подготовки сознания (изменения в менталитете) – с культуры, а не с экономики и политики, потому происходит постепенно и естественно, формируя ценности «модернити»: приоритет рационализма, индивидуализма, интенсивности, законопослушания и гражданственности; «неорганическая модернизация» предпринимается с целью преодоления исторического отставания, совершается путем заимствования технологий, директивных мероприятий, «быстрых» инновационных инициатив власти. Неорганическая модернизация начинается без подготовки сознания (без изменения менталитета) – не с культуры, а с экономики и политики, потому производится стремительно и неестественно. В результате общество развивается по схеме «ложной модернизации» (термин П. Штомпки), лишь имитирующей прогрессивное состояние: ценности «модернити» рассогласованы и дисгармоничны.
Модернизацию в России как можно характеризовать?
Нынешнюю модернизацию в России правомерно характеризовать как практику социальной эклектики: претензии на экономико-политические трансформации по западному типу (человеческий капитал, проектный офис, цифровизация) в условиях сохранения и укрепления традиционных «святоотеческих» ценностей (приоритет эмоциональности/душевности, коллективизма, экстенсивности, импульсивности, незаконопослушания). По нашему глубокому убеждению, именно ценностно-ментальный контент препятствует полноценной социально-онтологической модернизации, а её перспективность зависит от глубинных ментальных изменений, способности «перехода через внутренние Альпы» (термин В. Лехциера). В российской культуре есть концептуальный прецедент, могущий претендовать на статус идейного основания цивилизационного прорыва. Мы имеем в виду концепцию «личной годности», разработанную Петром Струве в начале XX века и содержащую набор личностных качеств, оптимальных для прогрессивного развития социума: автономия личности (индивидуализм), личная ответственность, выдержка/самообладание/расчетливость (рационализм), добровольное долженствование, добросовестность, сознательность, самодисциплина. Именно «личная годность» определяет то, как субъект распорядится своим человеческим капиталом.
От чего зависит социальное продвижение россиян?
Начать процесс преодоления «ментального барьера»/«личной негодности» для России жизненно необходимо, поскольку «...дисциплина управления моделями ментальности – осознание и изменение внутренних картин устройства мира – может стать главным шагом вперед» (П. Зенге). Перспективное социальное продвижение зависит от того, смогут ли россияне преодолеть последствия многовековой ориентации на сравнительные преимущества (природные ресурсы и/или низкую стоимость рабочей силы), пересмотреть привычную систему ценностей, препятствующих созданию благоприятного модернизационного климата, осознать и принять необходимость изменения ценностно-ментальной модели. Очевидна потребность в приоритетных государственных программных усилиях в направлении трансформирования менталитета: следует сконцентрировать государственное внимание на построении процесса гуманитарного воспитания детей и гуманитарного образования взрослых.
«Модернити»-социальность (рациональная, благополучная, комфортная) может быть создана только в результате предварительного или, как минимум, одновременного по отношению к изменениям в экономико-политической конфигурации общества критического переосмысления ценностного контента, а затем его обновления. Поэтому «личная годность» первична, человеческий капитал вторичен.