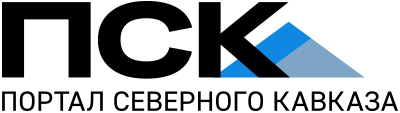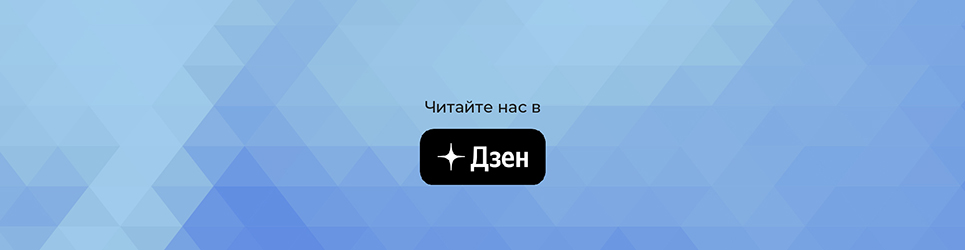Перед новым годом мы анонсировали предстоящую встречу с министром регионального развития РФ.
Портал Северного Кавказа был выбран площадкой для интерактивного общения главы Минрегиона и жителей СКФО. В адрес министра от жителей региона поступило множество вопросов. Мы благодарим всех посетителей Портала за активную позицию и публикуем интервью, подготовленное при поддержке редакции газеты «МК-Кавказ».
Кроме того, с ответами на вопросы, не вошедшими в интервью, можно ознакомиться, пройдя по этой ссылке.
Глава Минрегиона возглавил образованную в декабре 2013 года рабочую группу при правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, которой поручен мониторинг исполнения майских указов Президента РФ в регионе. В рамках подготовки к первому заседанию рабочей группы Игорь Слюняев провел в январе серию поездок по территориям Северного Кавказа. Беседа состоялась после совещания с членами правительства и главами муниципалитетов Ставрополья в Ессентуках.
– Игорь Николаевич, еще в декабре заговорили о том, что местное самоуправление ожидает новая реформа, в частности, отмена выборности мэров городов. Президент страны в своем послании Федеральному Собранию России сказал о необходимости развития сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. Выработка политики по развитию местного самоуправления, судя по функционалу Минрегиона, как раз ваша прерогатива. Так что нам ждать от новой реформы?
– Начнем с того, что предложения по дальнейшей реформе местного самоуправления исходят от разных групп и институтов нашего общества. Если говорить о Послании президента Федеральному Собранию, речь в нем идет о том, чтобы уточнить и обобщить наш собственный опыт в этом направлении. В 2014 году исполняется 150 лет Земской реформе, совсем недавно мы отмечали 10-летие 131-го Закона «О местном самоуправлении в Российской Федерации». Необходимо проанализировать наработанные практики и решать наиболее актуальные и очевидные проблемы, чтобы, как сказал президент, привести ситуацию в соответствие со здравым смыслом, с требованием времени, ожиданиями людей.
Я бы условно разделил развитие местного самоуправления в нашей стране, в ее новейшей истории, на три основных этапа. Первый – муниципальное бесправие. Мы после распада Советского Союза какое-то время вообще не регулировали эту сферу деятельности. Потом наступил этап муниципального произвола. В регионах и муниципалитетах каждый видел систему органов местного самоуправления по-своему. И только с разработкой и принятием известного 131-го федерального закона, который разграничил полномочия между уровнями публичной власти, мы получили целостную систему управления, в том числе стали понятны полномочия органов местного самоуправления.
Сегодня Минрегион России аккумулирует предложения от институтов гражданского общества, Совета по развитию местного самоуправления, администрации президента, от субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Мы внимательно анализируем и те предложения, что прозвучали в рамках Всероссийского съезда муниципальных образований, который прошел в ноябре 2013 года в Суздале.
Какие вещи для нас очевидны? Первое. Муниципальный уровень власти – наиболее близкий к людям, их проблемам и чаяниям, и он должен быть крепким, чтобы крепкой была вся властная конструкция в целом. Второе. Есть набор наиболее социально значимых функций, возложенных на органы местного самоуправления – общественный транспорт, общественная безопасность, образование и ряд других – которые должны быть подкреплены надлежащими доходными источниками и расходными полномочиями.
Нам удалось за последние пять лет существенно увеличить доходы муниципальных бюджетов. Если пять лет назад консолидированные доходы муниципальных бюджетов не превышали полутора триллиона рублей, то по итогам 2013 года эта цифра увеличилась до 3,5 триллиона рублей. Это существенный рост, даже с учетом инфляции.
– Извините, но муниципалитеты в один голос кричат, что у них отбирают деньги год от года, а вы говорите – рост…
– А какой уровень бюджетной системы сегодня говорит, что денег много и можно поделиться? Другой вопрос, что на реализацию всех полномочий денег действительно недостаточно. По-прежнему бюджеты большинства муниципальных образований продолжают оставаться дефицитными и в основном живут за счет помощи региональных бюджетов. Доноров среди муниципальных образований – в лучшем случае процентов десять.
Третья проблема – передача полномочий от одного уровня власти к другому. Это такой бесконечный процесс, потому в какой-то части цели, задачи, приоритеты меняются постоянно. Вот мы развернули масштабную программу модернизации здравоохранения, передали эту функцию с муниципального на региональный уровень. И это справедливо, ведь возможности региональных бюджетов значительно выше. Или возьмем возрождение системы дорожных фондов. Денег на муниципальные дороги катастрофически не хватало всегда. И с возрождением системы дорожных фондов появилась составляющая, опираясь на которую, можно строить планы, программы, перспективы в этой сфере.
Еще один важный момент – это, конечно же, управляемость местной власти. Допустим, полномочия, возложенные на сельские поселения, часто даже исполнять некому. Как только доходы муниципальных служащих были повышены, многие работники бюджетной сферы ушли на муниципальную службу. При повышении уровня оплаты труда работникам образования и здравоохранения мы видим обратный отток кадров. Это тоже тренд.
Поэтому, наверное, надо идти по пути укрупнения. У нас 21 тысяча муниципальных образований в стране. Много это или мало? В каких-то регионах много, как, к примеру, в Алтайском крае – более восьмисот муниципальных образований. На примере Костромской области, где я работал губернатором, могу сказать, что у нас их было более трехсот, но для небольшой губернии и это много.
– Одним из первых на президентское послание откликнулось руководство Ставрополья, предложив край в качестве «пилотной» площадки по предстоящей реформе. Причем уже даже принят закон, который ввел институт представителей губернатора в муниципальных образованиях. Как вы относитесь к такому нововведению?
– Снова приведу вам пример из моей губернаторской практики. Во время мирового финансового кризиса, для того чтобы получить четкую картину от муниципальных образований, в нашем регионе был создан институт финансовых уполномоченных. В муниципалитетах находились государственные служащие регионального уровня, которые занимались анализом рынка труда, конкурсных процедур, следили за ситуацией с доходами бюджета, отношением к имущественным и земельным вопросам, соотношением муниципальных и немуниципальных служащих и так далее. И этот опыт полностью себя оправдал.
Если сегодня ставропольскому губернатору нужны представители в муниципальных образованиях – пусть они работают, законом это не запрещено. Скажу больше, сегодня звучат предложения о том, чтобы уровень муниципальной власти в районе и городе сделать государственной службой для повышения ответственности за принимаемые решения. По крайней мере, такой вариант развития событий я не исключаю.
– Мы и мэров имеем в виду?
– Сегодня муниципальная служба не является государственной. Хотя, по сути, мало чем от нее отличается, оба уровня выполняют функцию органов власти. Поэтому в результате такой реформы мэры городов и главы районов могут приобрести статус государственных служащих.
В то же время я против революционных перемен в системе местного самоуправления. Вспомним, что Европейскую хартию о местном самоуправлении мы приняли полностью, без оговорок и изъятий.
– Да, и муниципалитеты не входят в систему органов государственной власти, это один из основополагающих конституционных принципов. Мэр, будучи государственным служащим, попадает под прямое подчинение вышестоящему уровню…
– Если он избираем – это нормально. Вспомните принцип двойной подчиненности, по горизонтали и вертикали. По горизонтали – подотчетность людям, избирателям, по вертикали – подчиненность вышестоящему уровню власти. Существует же сегодня механизм отстранения от должности нерадивого главы.
Не нарушая Конституции России и Хартии, мы будем искать оптимальную модель. Найти компромисс, золотую середину в части полномочий, финансов и ответственности, пожалуй, главная задача любой реформы. Президент определил нам направления работы, но дал нам время на дискуссию, и такая дискуссия сейчас ведется.
– В перечне федеральных программ особое место занимает ФЦП «Юг России» до 2020 года, разработанная Минрегионом и утвержденная кабинетом министров страны перед наступившим годом. Фактически это стратегия развития СКФО. Какие главные направления вы бы в ней выделили?
– Федеральная целевая программа «Юг России» указала нам на ближайшие годы ориентиры развития Северного Кавказа. Прежде всего это завершение ранее начатых объектов социальной сферы, образования и здравоохранения, коммунального хозяйства. Перед нами стоят задачи строительства школ, снятия острых проблем в медицине, развития санаторно-курортных и лечебных учреждений, снижения безработицы и создания новых рабочих мест. Начиная с 2016 года мы более активно займемся реальным сектором экономики и созданием с помощью бюджетной системы Российской Федерации новых производств на юге страны.
Мы разделяем программу на два этапа, учитывая трехлетний цикл бюджетного планирования: до 2017 года и 2017 – 2020 гг. Общая сумма финансирования на этот период составляет 190 миллиардов рублей, хотя потребности, конечно, выше, и необходимо работать над увеличением капитальных вложений в экономику и социальную инфраструктуру Северного Кавказа. Я рассчитываю, что при активной поддержке вице-премьера, полпреда президента в СКФО Александра Хлопонина, глав субъектов Федерации мы увеличим расходы на ФЦП.
Кроме того, не будем забывать, что есть еще программы естественных монополистов, институтов развития, есть иные федеральные целевые и государственные программы, по которым надо будет активно работать. И одной из главных своих задач, как руководителя рабочей группы при правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, я вижу мобилизацию коллег в федеральных органах власти для того, чтобы больше объектов и мероприятий было посвящено вопросам экономического развития и повышения качества жизни на Северном Кавказе.
– Конечно, все это жителей региона может только порадовать. А как вы сегодня ответите тем, кто призывает перестать «кормить Кавказ»?
– Такую позицию я не разделяю. Более того, считаю такие высказывания недопустимыми, потому что они подрывают принцип целостности нашего государства. Бороться с подобными умозрениями и высказываниями следует как на государственном, так и на бытовом уровнях, чтобы нам всем хватало знаний, воспитания и такта пресекать подобные разговоры не только в большом публичном пространстве, но и на кухне.
В российской глубинке можно услышать о том, что «хватит кормить Москву» и так далее. Мы единая страна, живем в едином государстве, должны развивать и Северный Кавказ, и Поволжье, и Центральную Россию, и Забайкалье, и Дальний Восток, и все остальные территории. Развивать, а не кормить, что не одно и то же.
– Те, кто это говорит, утверждают, что нарушен баланс в пользу кавказских республик, которые получают якобы гораздо большую финансовую поддержку, чем другие регионы…
– Это далеко не так. В капитальных расходах северокавказский регион не доминирует, хотя такой период был. Да, дотационные бюджеты, напряженная ситуация на рынке труда и другие проблемы накладывают свой отпечаток. Например, 18 тысяч детей на Северном Кавказе учатся в третью смену – такого нет в других федеральных округах, проблемы с профессиональным образованием, низкая обеспеченность медицинскими кадрами. Но есть на Северном Кавказе и свои очевидные преимущества: природно-климатические условия, большая рекреационная зона, возможности для эффективного ведения сельского хозяйства, и даже качество дорожного покрытия! На Кавказе в целом неплохие дороги.
Преимущества надо уметь использовать, при этом избавляясь от недостатков. Например, развитие туркластера на Северном Кавказе – один из главных приоритетов принятой федеральной целевой программы «Юг России» на 2014 – 2020 годы. Или развитие агропромышленного комплекса, реального сектора экономики. Другой приоритет – создание новых рабочих мест, снижение напряженности на рынке труда, в том числе и через туркластер.
А чтобы развивать туризм, индустрию гостеприимства, надо опереться на те традиции, которые испокон веку есть на кавказской земле, обучать традициям и технологиям современного сервиса нашу молодежь. Недавно в Москве я зашел позавтракать в кафе, которое знаю давно как место, где хорошо кормят, хотя обычно хромает сервис. На этот раз меня обслуживал парень из Дагестана, как выяснилось, подрабатывающий студент, и я отметил, что сервис высокого уровня. Каждый сможет, когда захочет.
– Это скорее идет от традиционного кавказского гостеприимства…
– Вот и замечательно! Значит, надо такие традиции прививать активнее. Есть очень много хорошего здесь, на Кавказе. Давайте вспомним знаменитые фильмы Георгия Данелия, Леонида Гайдая. Но, к сожалению, редко вспоминают о хорошем и чаще позиционируют регион как точку напряженности, точку негатива. Лично я очень люблю Кавказ, у меня здесь много друзей. Приезжаю – перемещаюсь свободно, без всякого напряжения, и мне это очень нравится.
– Особенно если вспомнить, что вы человек Кавказу не чужой. С этим связаны разные истории. И даже, говорят, на съезде Ассамблеи народов России вам присвоили статус «настоящего чеченца». Можно узнать, как это было?
– Мои отношения с Северным Кавказом начались в активной фазе с 1998 года, когда я пришел в дорожное хозяйство и мы ликвидировали последствия военных действий в Чеченской республике. Впоследствии я не раз опирался на команду дорожников – единомышленников, которые поддерживали меня в разные периоды моей жизни и которым я очень благодарен. Это Гайоз Макиев, Казбек Гаппоев, Владимир Елистратов, Ануарбий Суншев и многие другие.
Еще один важный период в моей жизни – 2002 год, когда мы с Сергеем Шойгу приехали на Ставрополье ликвидировать последствия наводнения. И позже жизнь плотно сводила меня с регионом еще не раз.
Что же касается упомянутого вами случая, то это было еще до избрания Рамазана Абдулатипова главой Дагестана, в тот момент он возглавлял Ассамблею народов России. И вот на съезде после нескольких выступлений слово берет спикер чеченского парламента Дукуваха Абдурахманов и говорит в присутствии тысячи делегатов, что он гордится, что здесь, в этом зале, за столом президиума сидит настоящий чеченец. Я оглянулся, думаю: про кого это? Ведь чеченцев за столом не было. А он продолжает: это Игорь Слюняев, который не боялся помогать нашей республике в самые трудные времена. Вот такая история действительно произошла.
А если говорить серьезно об обстановке в регионе, то, я считаю, не нужно уподобляться унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла. Криминальная обстановка – она разная на любой территории. Нужно меньше слухов и домыслов и больше работать над имиджем Северного Кавказа.
– Но пока что нужно признать, что существует стереотип высокой коррупционности и клановости в регионе, хотя, на наш взгляд, Москва в этом вопросе может дать Кавказу фору. Тем не менее, чтобы выделенные деньги действительно не уходили «в песок», необходим контроль, в том числе общественный. Недавно сопредседатель Общероссийского народного фронта и депутат Госдумы России от Ставрополья Ольга Тимофеева предложила, чтобы краевой штаб ОНФ взял под контроль строительство новой поликлиники в краевом центре, которая вошла в ряд объектов, финансируемых ФЦП «Юг России». Как вы относитесь к такой инициативе?
– Ольга Тимофеева – умный, ответственный, эффективный депутат, иначе мы об этом объекте сейчас вообще не говорили бы.
Если вы хотите знать мое мнение о производственно-финансовом контроле, то я считаю, что это в первую очередь удел профессионалов. Необходимые инструменты контроля, конечно, есть и у депутатов, существует также авторский надзор проектной организации, контроль со стороны заказчика, ведомственный контроль Минрегиона России как координатора, внешний контроль со стороны Счетной палаты, прокуратуры, финмониторинга и так далее.
Другое дело, что власть в плане принятия своих решений должна быть публичной и открытой. Так что общественный контроль возможен и даже нужен. Только в какой форме? Вопросы ведь не только в том, какие стройматериалы используются, и по каким ценам приобретается оборудование. Кто из персонала будет там работать? Каким будет соотношение платных и бесплатных услуг в новой поликлинике? Как решится проблема участковых врачей и педиатров для жителей проблемного микрорайона? Как обеспечить транспортную доступность поликлиники, которая будет построена в новом микрорайоне, для пациентов и персонала? Сколько, наконец, нужно парковочных мест? Если общественный контроль поднимет эти и другие вопросы не только на стадии строительства, но будет следить за ситуацией и в перспективе, эффект будет максимальным.
Поэтому, конечно, я за открытость. Мы только учимся строить умную систему управления, и если нам подскажут, как сделать лучше, это нормально. Хуже, если все время ты закрываешься в тиши своего кабинета, генерируешь там идеи, которые сам потом и реализовываешь. Это опасно для любого управленца, потому что заканчивается в лучшем случае поправимыми ошибками, в худшем – уголовным делами.
– Приезд сюда связан с тем, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, увидеть ее своими глазами? Вам поручен мониторинг исполнения майских указов президента, но наверняка при этом вы и так обладаете всей необходимой отчетной и справочной информацией. Удастся ли вам лично ее перепроверить?
– Не считаю себя инспектором, который приехал надзирать за региональными властями. Партнер федерального уровня пришел для того, чтобы подсказать, как правильно начать программу «Юг России», проанализировать ранее достигнутые результаты и избежать ошибок. В первую очередь – помощь и координация, а уж потом контроль.
Но, конечно, вы правы в том, что самые правильные впечатления – это личные, особенно если речь идет о капитальных вложениях. Вот вы привели пример поликлиники в Ставрополе. То, что этот объект попал в программу «Юг России» буквально за три дня до ее принятия, – результат сложения личных усилий. И в том числе той же Ольги Тимофеевой, врио губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, который очень аргументированно и настойчиво отстаивает в федеральных министерствах интересы региона. В том, что такая поликлиника крайне необходима, они смогли убедить не только меня, но и полпреда в СКФО Александра Хлопонина, которого, конечно, нужно поблагодарить за понимание и поддержку. Ведь мы переписывали программу буквально с колес. Имел ли я моральное право после этого не приехать и не посмотреть на месте площадку будущей стройки? Нет, конечно.
– Думаем, что мы имеем полное моральное право от имени жителей Ставрополя выразить вам и всем, благодаря кому этот объект вошел в программу «Юг России» и будет построен, слова искренней признательности. А теперь хотелось бы задать вопрос о другой программе - ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» на 2014 – 2020 годы. В перечне – немало мероприятий федерального уровня и даже съемка кинофильмов. Как сделать так, чтобы хорошая идея не обернулась профанацией в виде очередного патриотического «эпоса» Михалкова или Бондарчука за бюджетные деньги? В каждом регионе, согласитесь, своя специфика, свой национальный колорит, своя ситуация и свой накопленный опыт. Может, стоило сосредоточиться на поддержке региональных усилий или местных НКО?
– Вы абсолютно правы насчет акцентов, поэтому и гранты некоммерческим организациям, и поддержку региональных программ мы запланировали.
Будут и серьезные мероприятия федерального уровня. В частности, молодежно-образовательный форум «Патриот», ставший традиционным форум «Машук» на Северном Кавказе. Буквально на днях мы обсуждали организацию передвижной выставки, рассказывающей об истории династии Романовых. Будут мероприятия в память о Великой Отечественной войне, конкурсы школьных сочинений, этнической журналистики. Мы сейчас усиливаем идеологическую составляющую этой программы.
Откуда берется веротерпимость, взаимное уважение, любовь к нашим соотечественникам? От образования, культуры и воспитания. Поэтому все, что мы делаем в нашей стране, должно быть так или иначе связано с тем, чтобы воспитать патриота, который любит свою страну, своих родителей, знает свои корни, думает о будущем и нацелен на то, чтобы жить в мире со своим соседом, независимо от его национальности и вероисповедания.
Минрегион проведет конкурсный отбор региональных программ этнокультурного развития и уже в текущем году направит на их софинансирование из федерального бюджета 376 милионов рублей. В целом программой предусмотрено до 2020 года профинансировать усилия регионов по укреплению единства нашей нации и этнокультурному развитию народов России 3,2 миллиарда рублей.
Но не все упирается в деньги. Историю не творит материя, историю творит дух. Поэтому прежде всего важна содержательная составляющая укрепления единства нашего народа, развития нашего государства.